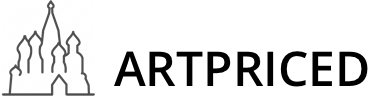Великий русский художник, родоначальник критического реализма. Живописец, график. Мастер жанровой картины. Родился 22 июня 1815 года в Москве, в семье бедного чиновника. Обучался в 1-ом московском кадетском корпусе, всё свободное время отдавал рисованию. В 1830 году Федотов стал унтер-офицером, а уже в 1833 году произведен в фельдфебели и в 1833 году окончил курс первым учеником. Выпущенный прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк, Федотов переселился в Санкт-Петербург. В Петербурге записался в вечерние классы при Академии. В начале 1844 года ушел из полка и полностью посвятил себя занятим живописью и рисованием. Отсутствие мощного художественного образования не помешало Федотову стать одним из гениев русского искусства. Его работы находятся во всех значимых музеях России.
Судьба Павла Андреевича Федотова сложилась на редкость неординарно, но в этой неординарности по-своему сказалась общая судьба всей русской живописи, вынужденной после петровских реформ в течение XVIII, а потом и XIX века мучительно «догонять» живопись западноевропейскую. В искусство он пришел, по понятиям своего времени, поздно, без каких-либо реальных шансов на успех, но за несколько лет стремительного развития сумел обогнать своих современников на целое, если не более, поколение.
Первоначально ничто не обещало ему этой судьбы. Он родился в 1815 году, в семье мелкого чиновника, отставного офицера, и, чтобы хоть чего-то добиться в жизни, должен был полагаться исключительно на собственные старания. Он и старался: отданный в Московский кадетский корпус, с отличием окончил его, даже завоевав право служить в гвардии. В Петербурге, в лейбгвардии Финляндском полку, он показал себя образцовым офицером, и карьера его, казалось, была обеспечена.
Художественные интересы в жизненных планах юного Федотова, скорее всего, совсем не фигурировали: и семейный уклад, и учебная система кадетского корпуса были равно далеки от искусства. В то время как его сверстники, будущие художники, уже постигали азы рисовального мастерства, он «долбил» армейский устав и упражнялся в шагистике. Громадное дарование, заложенное в Федотове самой природой, еще дремало, не осознавая себя и не влияя сколько-нибудь заметно на его существование.
Будучи кадетом, он развлекал товарищей рисованием карикатур, а став офицером, начал, кроме того, исполнять карандашные, затем акварельные портреты сослуживцев, но эти опыты не выходили за пределы дилетантского художества, обычного в его среде и в его время. С неменьшим увлечением занимался он и музицированием, и стихотворством, высказывая и здесь несомненную одаренность.
Правда, вскоре после переезда в Петербург Федотов записался в вечерние рисовальные классы при Академии художеств, но и там оказался отнюдь не исключением среди таких же, как он, дилетантов. Отличала его лишь удивительная быстрота профессионального усовершенствования, способность извлекать уроки мастерства не только из занятий в рисовальных классах, которые он посещал крайне нерегулярно (или, по его словам, «прерывисто»), но из собственной любительской практики и из всех мало-мальски художественных впечатлений, которые дарила ему окружающая жизнь. В самом деле, начав с беспомощных попыток писать акварелью, он вскоре овладел этой капризной техникой едва ли не на уровне работавших тогда опытных профессионалов, мастеров распространенного в России камерного портрета, настолько, что решился даже немного подработать, исполняя на продажу изображения особ императорского дома, главным образом Николая I (офицерского жалования с трудом хватало на издержки службы в привилегированном гвардейском [полку, да еще приходилось регулярно помогать оставшимся в Москве отцу и двум сестрам — это обязательство Федотов добровольно принял на себя и нес до самой смерти).
Надо думать, что именно такая практика и подсказала ему первый осторожный шаг на пути полупрофессионального существования. В 1837 году он дерзнул написать акварелью небольшую картину, изображающую посещение великим князем Михаилом Павловичем, шефом гвардейского корпуса, летнего лагеря Финляндского полка, в сущности, групповой портрет из нескольких десятков персон, и преподнести ее герою события. Подарок был принят, автор картины одарен бриллиантовым перстнем и сразу оказался на виду.
Перед Федотовым открылось поистине завидное поприще, способное удовлетворить и честолюбивые, и материальные запросы. Это была пользовавшаяся особым благоволением императора батальная живопись, или, точнее, тот ее род, который предлагал идеализированные, вылощенные картины военной жизни — парады, церемонии, караулы, бивуаки и прочее. Соединяя службу с занятиями живописью, а свое доскональное знание военного обихода с талантом, трудолюбием и все возрастающим умением, он легко мог бы оттеснить здесь любого соперника.
Федотов вступил на открывшийся перед ним путь и добился несомненных успехов, исполнив несколько акварельных картин в том же роде. Произведения были замечены и поощрены. Если добавить к этому, что его продвижение по службе оставалось таким же ровным (к концу 1841 года Федотов уже стал штабс-капитаном и командовал ротой), то желаемый идеал соединения приятного с полезным как будто начинал для него осуществляться. И это, безусловно, способно было бы удовлетворить притязания любого человека, не наделенного дарованием такого масштаба, каким был наделен Федотов.
Впрочем, масштабов своего дарования будущий художник еще сам не сознавал. Когда весной 1840 года перед ним неожиданно явилась возможность оставить полк и всецело предаться искусству, он испытал настолько сильные колебания, что даже обращался за советом к Карлу Брюллову, самому авторитетному живописцу России, но все же не решился на этот шаг. Понадобилось еще почти четыре года, чтобы Федотов явственно ощутил свое предназначение и осознал дальнейшую невозможность делить себя между службой и творчеством.
В начале 1844 года он наконец воспользовался данным ранее разрешением и вышел из полка. Шаг был рискованным: Федотов лишался не только верной карьеры (пройди каких-нибудь десять — двенадцать лет — и он мог бы командовать полком, пусть и не гвардейским) и приличного содержания, но и устойчивого, почетного положения в обществе. Вместо всего этого он приобретал скромную пенсию и ненадежный в николаевской России статус неслужащего человека.
Выйдя в отставку, Федотов поселился в одном из самых отдаленных районов Петербурга, в глубине Васильевского острова. Вынужденный существовать на одну только пенсию, да и ту разделяя со своими родными, он вел совершенно стоический образ жизни, безжалостно ограничивая себя во всем, что не касалось занятий искусством, и не позволяя себе отвлекаться ни на что, даже на тот небольшой приработок, который прежде помогал ему в полку сводить концы с концами. Это поистине фанатическое подвижничество было направлено на то, чтобы в неустанном труде наверстать годы (если не десятилетия), потерянные для искусства, догнать своих ровесников.
Задача, поставленная перед собой Федотовым, выглядела поистине фантастической. Ему шел двадцать девятый год, время было безнадежно упущено, а всего достигнутого до сих пор, строго говоря, хватало лишь на то, чтобы писать красивые картинки из военной жизни. Между тем притязания Федотова, уже начавшего ощущать мощь своего дарования, были высоки: он не только хотел осуществить себя как художник в самом серьезном смысле слова, но и сказать совершенно новое слово в искусстве, испытать силы в том роде, который до сих пор не знала русская живопись, — в бытовом жанре, то есть в изображении сцен повседневной жизни.
В самоопределении Федотова парадоксально сыграло благую роль то обстоятельство, что он невероятно поздно обратился искусству. Поэтому он избежал рутинной профессиональной школы, что с ранних лет направляла творческое воображение будущих художников по гладко накатанному пути академической живописи, иссушая и извращая любое поползновение обратиться к живой реальности, которое у них могло возникнуть. Ход Федотова к творчеству был необычен для того времени — не от самого искусства, а от непосредственных жизненных впечатлении.
Его начальной школой стали именно эти впечатления, которые он бессознательно накапливал еще с детских лет, обнаруживая поистине удивительный для его возраста интерес к подробностям человеческой жизни, протекавшей вокруг. Позднее, уже в Петербурге, жажда впечатлений, став едва ли не маниакальной, заставляла его часами бродить по улицам, рассматривая прохожих, заглядывая в окна домов, заходя в трактиры и лавки, вступая в беседы со встречными, и непрерывно размышлять и фантазировать по поводу увиденного, домысливать характеры и житейские коллизии. Закономерно возникла потребность переложить результаты своих наблюдений и размышлений на язык искусства, придав им качество художественного совершенства, — иными словами, сделать то, что в русской литературе уже сделал Гоголь.
Мы не в состоянии судить о том, когда и как стала осознаваться Федотовым эта потребность. Доподлинно известно лишь, что в 1844 году, еще продолжая добросовестно заниматься в классе батальной живописи, куда он поступил сразу после выхода из полка, он предпринял первую практическую попытку проявить себя в бытовом жанре —подвергнуть (морализаторскому осмеянию человеческие пороки в обширной серии сюжетных композиций (исполненных в технике сепии потому так и называемых); в дальнейшем он предполагал использовать их»в качестве эскизов к большим, «настоящим» картинам.
Замысел возник не без влияния работ известного английского художника Уильяма Хогарта, которым Федотов тогда сильно увлекался, пытаясь найти необходимую опору в новом деле. Вряд ли этот замысел был посилен для начинающего художника, да и реализован он был далеко не полностью, лишь в семи композициях, исполненных одна за другой в течение все того же 1844 года. В последней из них, в «Следствии кончины Фидельки», Федотов уже начал приближаться к совершенству, но продолжать серию, отталкиваясь от достигнутого здесь, не стал — развитие художника происходило так быстро, что •прежний замысел уже перестал удовлетворять его самого, да и уходящее время неумолимо подгоняло, заставляя взяться за первую картину.
На серьезное освоение техники; масляной живописи обычно уходит несколько лет старательной учебы под умелым руководством. Федотов проделал это за год или немногим больше и совершенно самостоятельно. Помогли не только громадное дарование и неслыханное трудолюбие, но и склад характера и ума, позволивший выработать собственную систему самообучения, которой он главным образом и был обязан своим великолепным мастерством Федотов научился последовательно ставить перед собой все более усложняющиеся задания и проявлял безжалостную придирчивость к себе при их выполнении.
Вот почему первая живописная попытка Федотова, картина «Свежий кавалер», написанная в 1846 году, сразу оказалась на уровне профессиональных требований своего времени. Для картины он использовал сюжет одной из сипи: мелкий чиновник, отпраздновавший накануне получение ордена, посреди беспорядка, произведенного весельем, вступил в перепалку с кухаркой его заносчивость наталкивается на ее насмешку.
Поистине дерзновенная новизна «Свежего кавалера» заключалась не только в том, что в ней предстали реальная жизнь, реальный быт, очень достоверно воспроизведенный средствами живописи. Художник впервые обратился к одной из самых низменных, заведомо, по понятиям того времени, недостойных искусства и искусством брезгливо обходимых сфер человеческого существования с ее неказистой и нечистой, изнаночной стороны. Кроме того, это была не просто зарисовка с натуры, какие уже успели проникнуть в русскую живопись, а подлинная сюжетная сцена — с взаимодействующими живыми характерами, с продуманной и тщательно выстроенной драматургической коллизией. Иными словами, это была жизнь, заново рожденная, превращенная в произведение искусства творческим воображением автора.
В этой картине были и иные стороны, явно ускользнувшие от восприятия современников Федотова и вряд ли до конца осознаваемые им самим, но неоспоримо свидетельствующие о еще скрытых возможностях его таланта, о том, что он способен на нечто гораздо более значительное, чем создание морализующих бытовых картинок.
Тот самый «маленький человек», который прочно утвердился в русской литературе, взывая о сострадании к париям общества, слабым мира сего, здесь неожиданно оборачивался разнузданным хамом, срывающим озлобление от собственной униженности на существе, ему подчиненном. Картина была нечаянным прозрением гения. Далеко не прост оказался и ее образный строй. Отыскивая способы передать в сконцентрированном виде свои жизненные впечатления, Федотов не без лукавства пытался приспособить к ним приемы, извлеченные из арсенала академической живописи. Наложенные на вульгарную житейскую ситуацию, -приемы эти сами начинали выглядеть комично, пародийно. Федотов расставался с академической традицией смеясь, а смех — признак внутренней силы.
Со «Свежим кавалером» в русскую живопись вошло новое направление которому предстояло развиться и окрепнуть заботами самого Федотова и художников следующего поколения. Правда, тогда об этом еще никто не подозревал, потому что картина скрывалась в мастерской, известная лишь близким друзьям художника, а тот, не теряя времени, работал над следующей.
Верный принятому правилу каждым новым произведением подниматься на более высокую ступень .мастерства, он постарался здесь преодолеть промахи и слабости своего первенца: перегруженность деталями, некторую нарочитость сюжета, жестковатость живописи.
И это ему удалось. Картина «Разборчивая невеста» написана уверенной кистью мастера, отлично знающего свое дело. Здесь Федотов впервые приблизился к идеалу, который составляет существенное качество истинного искусства, побуждающего наслаждаться им независимо от неприглядности изображенного предмета. Сюжет выстроен легко и читается без усилий: понятны сами персонажи, не воплощающие ту или иную резонерскую тенденцию, а ведущие себя естественно и непринужденно, в соответствии со своими характерами и жизненными обстоятельствами; понятно и то, что в данный момент происходит между ними, и то, что предшествовало их встрече и что воспоследует; место действия обрисовано деталями немногими, но выразительными.
Иными словами, Федотов показал себя во всеоружии мастерства, вполне подготовленным к достижению маячившей перед ним высокой цели. Слабым местом оказался лишь самый замысел картины. Навеянная одноименной басней И. А. Крылова, она представляла собой, в сущности, немногим более чем иллюстрацию к ней. Искусно выстроенная коллизия человеческих взаимоотношений выглядела лишь любопытным частным случаем, выхваченным из череды событий, — в меру грустным, в меру забавным, в меру назидательным, но не способным побудить зрителя к серьезным размышлениям о жизни и ее противоречиях вообще, что, собственно, и отличает выдающееся произведение искусства от просто хорошего.
Именно таким выдающимся произведением стала следующая, третья по счету, картина Федотова «Сватовство майора», шедевр русской живописи, написанный — трудно поверить — лишь три года спустя после того, как художник впервые взял в руки кисть. Победа была полной: самый придирчивый глаз не отыщет в картине слабых мест.
Завязка сюжета, почерпнутая из жизни, свидетельствовала о незаурядном, как сказали бы сейчас, социологическом чутье художника: небогатый офицер, тяготясь службой и намереваясь уйти в отставку, сватается к дочери купца,
чтобы устроить свое благополучие. Ситуации неравного брака, достаточно прямолинейной и обычно столь любимой художниками обличительного направления, Федотов избежал: благородное положение будущего жениха тут как бы уравновешивается капиталом отца невесты. Зато возникла более сложная и щекотливая ситуация обоюдной купли-продажи, или торга, при*котором каждая сторона, вожделея успеха и стараясь показать товар лицом, притворяется не тем, чем является на самом деле. Возникла тема притворства, противоречия между подлинным и показным – тема неистинности, так сильно окрашивающей человеческие отношения. Эта тема давно волновала Федотова, и он отдал ей щедрую дань в большинстве своих произведений — и во многих сепиях, и в «Свежем кавалере», и в* «Разборчивой невесте», а потом и в работе «Не в пору гость». Но нигде она не прозвучала так сильно и многообразно, как в «Сватовстве майора».
В картине мастерски использованы богатые драматургические возможности сюжетной завязки. Практически изображено не самое сватовство, то есть встреча обеих договаривающихся сторон, но момент, непосредственно предшествующий встрече, когда обитатели купеческого дома, собравшиеся в гостиной, при известии о приходе Майора поспешно, на глазах у зрителя, принимают облик, необходимый для переговоров, а сам он, уже войдя в соседнюю комнату и еще невидимый ими, делает то же самое, охорашиваясь перед зеркалом.
Так же мастерски выстроена композиция картины. Двух качеств одновременно добивался Федотов: выразительности, то есть способности самим композиционным построением, взаимоотношением частей сообщать зрителю то, что обуревает художника, и пластического совершенства, делающего картину истинно художественным произведением, побуждающего любоваться и восторгаться ею самой сверх тех мыслей и чувств, которые нам сообщает. Обоих качеств он достиг, причем — что особенно «трудно — в многофигурной композиции, населенной восемью персонажами, да еще при том, что один из них, Майор, удален от остальных. Удивительно ли, что в русской живописи XIX века картина стала (хрестоматийной по безупречной выверенности своего композиционного строя.
Все персонажи сгруппированы вереницей, которая, извиваясь, то выводит вперед одних, более важных, то уводит в глубину других, второстепенных. Эта группа образует как бы единую линию, связывающую героев и придающую гармоничную цельность картине. Подобное решение имеет еще одну тонкость, не сразу улавливаемую. Последовательность персонажей в веренице не случайна: Майор связан со Свахой, сообщающей известие Отцу, а тот — с Матерьюки Дочерью (растерянная Дочь пытается сбежать, Мать резко удерживает ее); замыкается вереница тремя второстепенными персонажами — Кухаркой, Сидельцем из лавки и Приживалкой. Получается, что весть о появлении жениха словно распространяется по этой веренице, в которой каждый последующий знает о новости меньше предыдущего и менее готов к ответственной встрече. В результате краткий миг переполоха оказывается как бы растянутым во времени, а само это время — переданными пространстве картины.
В «Сватовстве майора» Федотов довел до совершенства свою методику работы над реалистической картиной. Здесь он ни в чем не мог полагаться на навыки академической живописи, имевшей дело с сюжетами мифологическими или псевдоисторическими (по сути дела, тоже мифологизированными), и вынужден был искать путей самостоятельно. Методика, выработанная им, оказалась настолько удачной, настолько точно соответствовала вызвавшим ее к жизни задачам, что прочно вошла в обиход и прослужила не одному поколению русских художников. Суть ее заключалась в том, что на предварительном этапе живописец, суммируя впечатления от реальности, выстраивал в воображении некие типические образы, наиболее полно и ярко воплощающие его замысел,^затем как бы возвращался к реальности, отыскивая в ней и запечатлевая в этюдах то, что ближе всего подходило к искомому, и, наконец, переходя яс самой картине, вновь проверял запечатленную реальность синтезирующей работой воображения. История «Сватовства майора», известная нам по воспоминаниям современников гораздо лучше, чем история других его картин, изобилует эпизодами изнурительных поисков Федотовым не только реальных прототипов для будущих персонажей, но даже предметов обстановки, которые соответствовали бы сложившимся у него идеальным представлениям.
В этой картине Федотов не только обнаружил полную зрелость своего таланта и мастерства, но и впервые предстал самим собой, окончательно отрешившись от всего чуждого его собственной индивидуальности, и прежде всего от обличительного морализаторства, которое вдохновляло его первые шаги на избранном поприще. То был результат интенсивного развития, причем развития не только профессионального, но и духовного, личностного: упрощенное восприятие действительности сменялось все более сложным.
А. Н.г Бенуа, первым определивший природу федотовского искусства, проницательно заметил, что «в сущности, Федотов был заодно с теми людьми, которых изображал. Он любил их… Казнил он этих любимцев деликатно . . .»*. Мудрое приятие жизни, такой, какова она есть, с неизбежным столкновением в ней светлого и темного, высокого и низкого, доброго и злого, с ее неизбежными противоречиями, не отменяло критического отношения к ее уродствам, но окрашивало это отношение в специфические, чисто федотовские тона. За каждым из своих героев художник не отрицает права быть именно таким, каков он есть; насмешка его соединяется с откровенным сочувствием, подчас с нежностью, а трезвость со своеобразным любованием.
«Сватовство майора» было написано в 1848 году, но вместе с двумя первыми картинами довольно долго оставалось не известным никому, кроме близких друзей. Правда, еще весной того же года художник рискнул представить «Свежего кавалера» и «Разборчивую невесту» в Академию художеств. Там, не без содействия К. П. Брюллова, настолько высоко оценили достигнутое Федотовым, что даже предложили ему добиваться звания академика, что он и сделал, уже в сентябре подав только что оконченное» «Сватовство майора» и получив столь лестное звание.
Это был явный успех, но его ждал успех еще более внушительный. 2 октября 1849 года открылась большая (трехгодичная) выставка Академии художеств. Все три «картины Федотова, показанные на ней, своей невиданной по тем временам новизной сюжетов и жизненной убедительностью (узнаваемостью) изображенного произвели ошеломляющее впечатление на публику. В считанные дни Федотов сделался известен, даже знаменит. С ним искали знакомства. Он многие часы проводил на выставке возле своих картин — давал пояснения интересующимся, разубеждал скептиков и не раз читал вслух свое шутливое стихотворение, комментирующее сюжет «Сватовства майора» в духе раешника. То был уже не просто успех, а подлинный триумф, в какой-то мере, может быть, сравнимый с триумфом К. П. Брюллова, показавшего в этих же залах тринадцатью годами ранее «Последний день Помпеи».
«Сватовство майора» и поныне остается самой популярной картиной Федотова, прочно ассоциирующейся с его именем и заметно потеснившей в сознании любителей искусства остальные его произведения — не только предшествующие, но и последующие. Это в самом деле одна из вершин его искусства и, что не менее важно, — высшая точка его жизненного успеха, его согласия с окружающим миром и внутреннего равновесия.
В «Сватовстве майора» он счастливо соединил собственные новаторские устремления: с той академической традицией, уроками которой стремился пользоваться. Здесь в равной мере торжествовали его чувство и рассудок, поддерживающие друг друга в совместной работе. В этой картине он достиг полного взаимопонимания с обществом, создав именно то, чего жадно ждала от живописи публика, возбужденная успехами русской литературы. Наконец, именно здесь его тайные честолюбивые притязания были как будто удовлетворены и жизненная реальность, казалось, вошла в соответствие с его представлениями о ней: начинали сбываться самые дерзновенные его упования, рискованный уход из полка и подвижнический труд оказывались не напрасны.
Ему бы этот миг продлить не разрабатывать столь счастливо обретенное в «Сватовстве майора». Этого с лихвой хватило бы на то, чтобы! завоевать благодарное признание потомков и прочное место в истории отечественного искусства. Однако остановиться он уже* не был в состоянии. Могучее дарование, которое помогло ему за несколько лет превратиться из обаятельного дилетанта в академика, нет, больше, в одного из первых живописцев России («Вы меня обогнали …» — сказал ему К. Брюллов, познакомившись только с двумя его первыми картинами), неудержимо толкало его дальше, в неизведанное, заставляя пренебрегать счастливым взаимопониманием с публикой, разрушать сложившееся равновесие, порывать согласие с миром, приближая свой трагический конец, а с ним и высший, но уже посмертный триумф.
Правда, следующая после «Сватовства майора» картина как будто ничего не гово-рила о подступающих переменах. Замысел ее возник, скорее всего, при чтении фельетона И. А. Гончарова о светских молодых людях, из тщеславия ведущих двойную жизнь — скудость втайне от всех и показной лоск для окружающих. Фраза: «А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?» — словно подсказала сюжетную завязку: светский щеголь, завтракающий у себя в кабинете куском черного хлеба, напуган неожиданным визитом.
Картина «Не в пору гость (Завтрак аристократа)» покоряет блистательным живописным мастерством, точностью социально-психологической харак-теристики героя, незадачливого «аристократа», виртуозной передачей многообразной красоты видимого мира и чистосердечным восторгом перед ней. Но всем этим Федотов уже не мог довольствоваться. Гармоничное мировосприятие, столь ярко и подкупающе выразившееся в «Сватовстве майора», не могло сохраняться долее — художнику предстояло совершить путь к’глубокому и безнадежному трагизму.
Обстоятельства жизни сами подталкивали его к этому. Блистательный триумф — звание академика, успех «Сватовства майора», невиданная популярность ничего не изменил, да и не мог изменить в существовании одинокого бедного художника, на свой страх и риск совершающего дело своей жизни. Беспросветность подобного существования стала только очевиднее. Кроме того, самый выход Федотова из замкнутого бытия на широкую общественную арену делал рано или поздно неминуемым его прямое столкновение с реальностью николаевской эпохи, вступившей в свое последнее и, быть может, самое страшное пятилетие (только что были осуждены петрашевцы). Мелкие притеснения, чинимые художнику цензурой по поводу издания литографий с картин (так и не осуществившегося), были не более чем провозвестниками гонений намного более серьезных, от которых его уберегла лишь ранняя
смерть.
Последние два с лишним года жизни Федотова, как это ни удивительно, известны нам едва ли не хуже всего, и мы не в состоянии сколько-нибудь определенно судить не только о времени создания ряда его работ, но даже о последовательности возникновения некоторых из них. То были годы изнурительной и унизительной борьбы за существование, каждый эпизод которой ранил его достоинство и все сильнее утверждал в безысходности происходящего. Провалилась (не только затея с литографированием картин, но и попытка издавать на продажу свои рисунки, иронические сценки из повседневной жизни. До сих пор упорно не соглашавшийся, расставаться со своими картинами, он был вынужден продать их, но за цену вдвое меньше той, которую ему предлагали раньше. Он начал копию «Сватовства майора», рассчитывая продать и ее, но работа так затянула его, что стал возникать, по существу, второй вариант, отличающийся от первого своим мрачным тоном; впрочем, и он остался не завершенным.
Эти два с лишним года были временем творчества поразительного напряжения даже в сравнении с интенсивностью предшествующей поры. Сфера интересов Федотова продолжала неудержимо расширяться, и он за короткое время сумел сказать нечто незаурядное для отечественной живописи даже в тех областях, которые прежде как будто не привлекали его внимание, — в пейзаже и
портрете.
Именно тогда он написал свой единственный, но выдающийся пейзаж «Зимний день», в котором предвосхитил искания художников следующего поколения. По всей видимости, простой и быстрый этюд, сделанный Федотовым прямо из окна собственной квартиры, соединял в себе тонкую передачу состояния атмосферы морозно-влажного, полусумеречного петербургского дня с передачей состояния души — томительности тянущегося бездействия .
Портреты Федотов писал и раньше, и в немалом количестве, но почти исключительно в целях совершенствования живописного мастерства, потому что к самим задачам портретного искусства был склонен относиться скептически, и не пытался со-ревноваться в этом жанре со своими выдающимися предшественниками и современниками В. Л. Боровиковским, О. А. Ки-пренским, В. А. Тропининым, К. П. Брюлловым. Его портретные работы были по-свое-му неординарны. Очень малые по размеру, они разительно отличались от портретов «сочиненных», характерных для того времени, и представляли собой, в сущности, натурные этюды, изучающие связь человека с интерьером, столь важную для автора бытовых сцен; характеристики людей отличались подчеркнутой сдержанностью. Теперь же его стали увлекать собственные возможности этого жанра, и он исполнил, среди прочих, два превосходных произведения: «Портрет Е. Г. Флуга» и «Портрет Н. П. Жданович за клавесином». Вторая из этих картин стала подлинной жемчужиной русского портретного искусства по чарующей гармонии и просветленности запечатленного в ней женского характера.
Все же главным для Федотова были не эти опыты, а работа над новыми картинами, представившими его в совершенно неожиданном свете. Именно в этих произведениях он стал порывать со «многим из того, что до сих пор составляло достоинство, ценность и силу его искусства.
Мысль о первой из них, «Вдовушке», известной в трех самостоятельных вариантах, исполненных один за другим, зародилась под впечатлением поездки в Москву в 1850 году и размышлений о судьбе своей сестры, только что оставшейся вдовой, в ожидании ребенка и без средств к существованию. Впрочем, сюжет заметно удалился от этого конкретного жизненного факта.
Уже в замысле картины отразился глубокий перелом, совершавшийся тогда в миросозерцании художника, с горечью и болью отрешавшегося от доверчиво-приязненного отношения к действительности. Героиня картины, молоденькая вдова офицера (его портрет находится рядом с ней), жестоким ударом судьбы выброшенная из своего уютного мирка, словно стоит |На крохотном островке, составленном из нескольких оставшихся с ней любимых предметов, осколков прежней жизни, прошлое безвозвратно, настоящее безжалостно, будущее безотрадно.
Однако содержание «Вдовушки» гораздо сложнее изображенной в ней драматической ситуации. Здесь Федотов впервые попытался шагнуть за пределы объективной реальности, предстоящей нам, и долгая история картины наглядно рассказывает о том, как трудно дался ему этот шаг. Первый вариант, исполненный с безупречным мастерством, уже ставшим нормой для Федотова, все же не удовлетворил его самого, главным образом, трактовкой образа героини. Вдовушка предстала здесь слишком реальной, до обыденности, женщиной, в то время как художник стремился придать ей черты идеальные, даже неземные. Этого он сумел достичь лишь в третьем варианте картины, где Вдовушка оказалась прекрасным существом, подобным ангелу с древнерусской иконы, — существом, не раздавленным земными страданиями и тяготами, но и не перебарывающим их,|а как бы возвышающимся над ними силой своей духовности, чистоты и высокой отрешенности от всего обыденного.
Последний, третий вариант «Вдовушки» был, очевидно, закончен весной 1852 года, иными словами, за несколько месяцев до смерти художника и незадолго до его тяжелой болезни, но еще осенью 1851 года Федотов показал на очередной академической выставке первый вариант. Картина не произвела на публику того впечатления, что «Сватовство майора» двумя годами раньше. Это не должно казаться удивительным: Федотов сейчас уже начал обгонять вкусы и представления своих современников и понемногу утрачивать их сочувственное понимание. И не только современников, потому что в течение десятилетий зрители, включая и самых серьезных критиков, не усматривали в картине ничего, кроме» слащавой сентиментальности, и посмертно пеняли художнику за отход от реализма, столь убедительно утвержденного им в «Сватовстве майора».
(Еще резче продвинулся вперед Федотов в двух других, своих картинах, и судьба их сложилась еще неблагодарнее. Первая из них, «Анкор, еще анкор!», произвела впечатление незаконченного эскиза, не достойного внимания, и понадобилось почти полвека для того, .чтобы ей было воздано по достоинству все тем же А. Н. Бенуа). Вторая же, «Игроки», никому не известная при жизни художника, после его смерти попала в частное собрание и долго оставалась в забвении; она до сих пор вызывает споры, и смысл ее все еще представляется загадочным. Обе картины писались, скорее всего, одновременно с «Вдовушкой», по крайней мере с вторым и третьим ее вариантами, и с вторым вариантом «Сватовства майора». Всех их роднит безнадежно мрачный тон.
В картине «Анкор, еще анкор!» Федотов впервые сделал предметом изображения не самое событие, а то, что принято называть душевной атмосферой, — внутреннее состояние человека, чувствительно отзывающегося на окружающую жизнь. Сюжет картины крайне прост: в полутемной крестьянской избе молодой офицер при свете свечи коротает вечер, забавляясь игрой с пуделем, а в стороне денщик раскуривает трубку. Сюжета по существу нет. Нет никакого события — ни такого серьезного, как сватовство или награждение орденом, ни такого мелкого, как нежданный визит на дом. Нет и конкретных характеров, потому что Федотов не дает никакого представления ни об Офицере, который лежит на лавке ничком, низко опустив голову, ни о Денщике который едва различим в темном углу и легко может показаться призраком фантомом.
Здесь ничто не завязывается и не развязывается, не начинается и не кончается. Есть только один нескончаемый темный день, тянущийся словно в мучительном бреду, когда не отличить сна от яви. Есть только смутное настоящее с пуделем, одуряюще монотонно скачущим через подставленный ему чубук, — ужасающее состояние души человека, заброшенного в глушь, замкнутого в четырех стенах и изо дня в день теряющего духовные и нравственные силы в бессмысленном существовании.
Все, что Федотов до сих пор наживал, выстрадал неутомимым подвижническим трудом, все, что до сих пор ему служило верой и правдой, завоевывая ему признание и славу, здесь вдруг стало не нужно, и от всего он отказался.
Федотов отказался от тщательно и гармонично выстроенной академической композиции и решил картину на остром контрасте между неподвижным и сильно выделенным цветом центром картины со столом, несколькими вещами на нем, окошком — и несущимся потоком движения, обтекающим его. Движение это, зарождаясь справа в глубине, проходит по фигуре Офицера, пе-реходит на скачущего пуделя, а с того — на фигуру Денщика, словно распластанную по стене. По видимости стремительное и сильное, оно бесцельно, как движение карусели, — не имеет ни отправной, ни конечной точки и обречено вместе с Офицером на вечное заключение во все тех же четырех стенах.
Федотов отказался от привычного, для него освещения. Ровный серебристый свет, заливавший спереди все изображенное в прежних картинах и помогавший все ясно разглядеть и спокойно оценить, воспринятый от академической живописи, был своего рода условностью, соответствовал позиции стороннего бесстрастного наблюдателя, взирающего, подобно театральному зрителю, на искусно выведенное напоказ, отделенное от него незримой чертой действие. Мир, изображенный в полотне «Анкор, еще анкор!», освещен не снаружи, а изнутри — одной свечой, стоящей на столе. Ее тусклый и неровный свет окрасил пространство в напряженные горячечные тона, сжал этот мир до нескольких предметов на столе, а все остальное погрузил в таинственную тьму и полутьму, заставляя лихорадочно работать воображение.
Федотов отказался от своей обычной манеры письма, с любовной тщательностью воссоздающей все видимое человеческому глазу. Его живопись стала широкой, динамичной и нервной; она легко пренебрегает четкостью контуров и определенностью деталей и самой своей раскованностью усиливает беспокойную атмосферу картины. Некоторые исследователи, пытаясь объяснить эту неожиданную свободу кисти и словно не доверяя смелости художника, называли и называют «Анкор, еще анкор!» эскизом или даже подмалевком будущей картины. Может быть и так, но меняет ли это существо дела, ослабляет ли воздействие на нас этого произведения — одного из самых сильных и неожиданных во всей русской живописи?
Не менее, если не более, смелый шаг Федотов совершил в «Игроках», по сей день -представляющих собой некую загадку и продолжающих мучить нас явной неполнотой их возможного толкования, притом, что самый сюжет кар-тины снова выглядит чрезвычайно простым: только;что закончилась карточная игра, длившаяся всю ноч